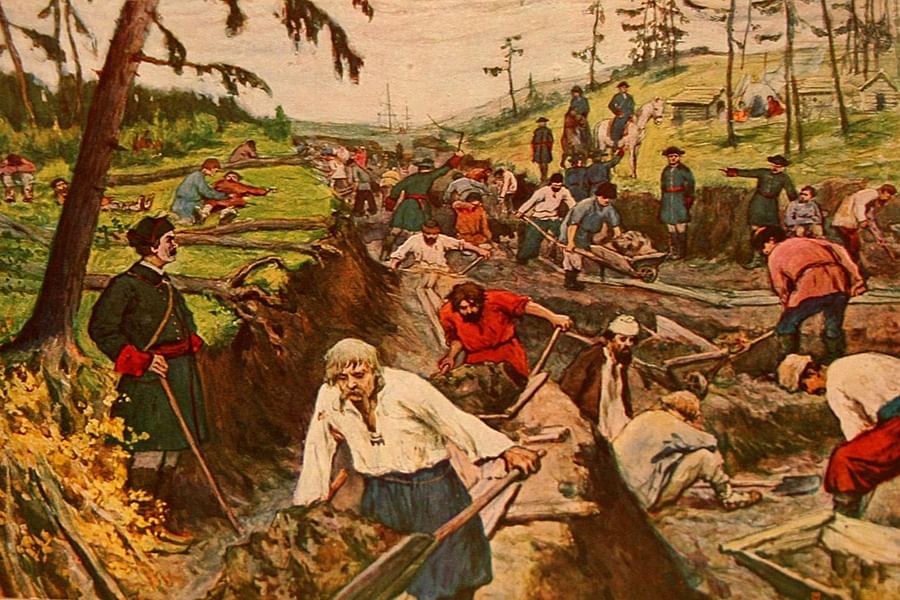6 декабря Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин провёл круглый стол на тему «Альтернатива лишению свободы в Казахстане: современное состояние и перспективы». Участники круглого стола обсудили доклад, подготовленный директором Восточно-Казахстанского филиала КМБПЧ, доктором юридических наук Куатом Рахимбердиным. Публикуем краткое изложение этого доклада.
Альтернативные меры наказания: общие положения
Одним из направлений строительства правового государства в Казахстане за три десятилетия независимости стала системная трансформация уголовной политики. В ходе этой трансформации были приняты новые кодексы – Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный, в общем и целом соответствующие современной парадигме гуманизации уголовной политики и ресоциализации лиц, преступивших закон.
Важным проявлением этой парадигмы стало значительное уменьшение численности «тюремного населения». С третьего места в мире по соотношению числа содержащихся в пенитенциарных учреждениях на 100 тысяч населения, занимаемого бывшим СССР в начале 90-х годов, современный Казахстан переместился на 95-е место в мире. В настоящее время в Казахстане число граждан, подвергнутых альтернативным мерам наказания, превышает количество содержащихся в местах лишения свободы.
Весьма рельефным проявлением возросшей роли альтернативных мер в уголовной политике Республики Казахстан, стало возникновение и развитие системы пробации, которая впервые среди государств Центральной Азии получает концептуальное и законодательное оформление. Таким образом альтернативные меры следует рассматривать в системной связи наказаний без лишения свободы, с пробацией и предусмотренным ею режимом посткриминального контроля.
Наказание в виде ограничения свободы
Согласно статье 44 УК РК ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.
Данный подход законодателя вызывает сомнение с точки зрения юридической техники, обоснованности и корректности. Пробационный контроль предлагается считать составной частью наказания и его содержанием, однако, содержание любого наказания – это возмездное, карательное правоограничение. В мировой практике пробация выступает не как наказание, а в качестве особой формы социально-правового контроля и метода ресоциализации осужденных. Рассматривать эту меру как элемент, находящийся внутри наказания, методологически ошибочно и не соответствует социальной значимости института пробации.
Полагаем также, что продолжительность ограничения свободы до 7 лет является чрезмерной. Все эти годы осужденный должен находиться на учёте в органах пробации, претерпевать правовые ограничения и подвергаться контролю со стороны государства. В этих условиях неизбежно возникают риски конфликтов, напряжённости во взаимоотношениях между персоналом органов и осужденных. С другой стороны, слишком продолжительный пробационный контроль, «стирает» первоначальный эффект уголовно-правового воздействия. Наказание превращается в привычную повседневность и уже не воспринимается осужденным так, как это было при его назначении. Таким образом, установленный в ст.44 УК РК, верхний предел ограничения свободы, нецелесообразен и не оправдан, в плане решения воспитательно-предупредительных задач, стоящих перед альтернативами лишения свободы.
Необходимо отметить, что законодатель, используя словосочетание «принудительный труд», допустил несоответствие рекомендациям конвенции Международной организации труда и другим документам, которые считают принудительный труд неприемлемым. Таким образом, вследствие методологической ошибки национального законодателя, сложилась парадоксальная ситуация. Международные стандарты не считают принудительным труд осужденных при отбывании наказания и в целом запрещают принудительный труд как дискриминационный и нарушающий важнейшие права и свободы человека. Казахстанский законодатель при этом допускает принудительный труд, ошибочно усматривая его признаки в работе осужденных, отбывающих альтернативные наказания.
Таким образом, имеются явные резервы для дальнейшего совершенствования наказания в виде ограничения свободы. Строго говоря, оно в большей степени выглядит как мера уголовно-правовой безопасности. Дефиниция мер безопасности пока не нашла официального признания и закрепления в уголовном законодательстве РК, однако она является весьма перспективной.
Наказание в виде привлечения к общественным работам
Наиболее ярким альтернативным наказанием является привлечение к общественным работам (ст.43 УК РК). Главным достоинством этого наказания является его ресоциализующая и воспитательно-профилактическая направленность. Выполняя работу, приносящую реальную пользу обществу и обладающую социальной значимостью, осужденный меняет своё отношение к совершённому им преступлению, переосмысливает собственное поведение и начинает чувствовать свою рефлексию в отношении ценностей, важных для общества.
Следует отметить, что законодатель не совсем точно определил содержание данного наказания. Согласно ч. 1 ст. 43 УК РК, общественные работы состоят в выполнении осужденным не требующих определённой квалификации бесплатных общественно-полезных работ. Если толковать это положение закона буквально, то получается, что при данном наказании в качестве главного лишения должен выступать сам труд осужденного. Но это недопустимо, поскольку труд должен быть не источником страданий для осужденного, а лишь одним из средств его ресоциализации.
Продолжительность общественных работ составляет от 20 до 200 часов за уголовные проступки и от 200 до 1200 часов за преступления небольшой и средней тяжести. Следует отметить, что это достаточно серьёзная продолжительность, соответствующая практике применения данного наказания в отдельных государствах.
Как показывает сложившийся опыт, данная правовая мера отбывается в форме преимущественного неквалифицированного физического труда (благоустройство парков и скверов, зданий социального значения, уборка снега в зимнее время). Однако мы полагаем, что при исполнении данного наказания должны использоваться любые виды труда, лишь бы он соответствовал возможностям осужденного и был полезен для общества, имел социальную значимость и ценность. Под воздействием положительных эмоциональных переживаний, связанных с оценкой своего труда как способного помочь людям в решении их актуальных проблем, осужденный будет испытывать нравственные изменения, преображение своих взглядов и ценностных ориентаций.
Что касается иных целей наказания, то, например цель специального предупреждения достигается за счёт того, что осужденный, трудясь в свободное от работы или учёбы время на соответствующем объекте, не будет иметь возможности совершить новое правонарушение, либо такая возможность будет минимальной. Наказание в виде привлечения к общественным работам, может обеспечить и достижение цели общей превенции, поскольку для определенной части «неустойчивых» лиц, возможность бесплатно трудиться достаточно продолжительный срок несомненно обладает сдерживающим эффектом.
Наказание в виде исправительных работ
Эта мера наказания установлена статьей 42 УК РК, по смыслу которой это есть денежное взыскание, которое заключается в ежемесячном удержании и перечислении в специализированный фонд помощи потерпевшим до 50% заработной платы осужденного. При этом общий объем удержаний должен соответствовать определённому количеству месячных расчетных показателей.
Фактически исправительные работы представляют собой разновидность штрафа в рассрочку. Вполне очевидно, что для наказания, альтернативного лишению свободы, это уголовная репрессия избыточного масштаба. Она ставит осужденного в худшие условия по сравнению с осужденными к другим наказаниям. Карательные правовые ограничения исправительных работ могут оказаться чрезмерными, особенно по сравнению с ранее действовавшей нормой, когда максимальная продолжительность исправительных работ не превышала двух лет.
Полагаем, что избыточная репрессивность исправительных работ может существенно осложнить реализацию социальных прав осужденного, который в течение всего срока отбывания наказания будет находиться на учёте в органах пробации, не имея права сменить место работы по своему усмотрению. Такие ограничения фактически перерастают в дискриминацию осужденного к исправительным работам относительно других осужденных, подвергнутых иным видам альтернативного наказания.
По существу это наказание ограничивает имущественные права осужденного, но обозначать исправительные работы денежным взысканием не вполне корректно. Дело в том, что при уплате штрафа осужденный самостоятельно отдаёт в бюджет государства денежные средства, которыми он располагает, тогда как исправительные работы поражают не столько имущественные, сколько социальные и трудовые права осужденного. Решение законодателя, превратившего исправработы в некий гибрид штрафа и исправительно-трудового воздействия, лишь многократно усилило репрессивность исправительных работ.
Абсолютной новизной, разрывающей с классическими традициями института наказания, стал компенсационный характер исправительных работ. Еще в 60-х годах прошлого века советский исследователь М.Д. Шаргородский утверждал, что никакое наказание никому ничего не возмещает и не компенсирует. В принципе этот тезис никем не оспаривался, однако статья 42 УК демонстрирует новый подход к данному вопросу. Она устанавливает, что ежемесячные удержания из заработка осужденного перечисляются в фонд компенсации потерпевшим. Иными словами, исправработы выполняют компенсационную функцию, принуждая осужденного возмещать причинённый им ущерб.
Наказание в виде штрафа
Согласно статье 41 УК РК, штраф есть денежное взыскание, назначаемое в размере определённого количества месячных расчетных показателей. По терминологии Токийских правил ООН штраф относится к экономическим санкциям. По существу это наказание разового характера, исполнение которого завершается в момент полной уплаты штрафа. Денежное взыскание поражает сферу имущественных прав осужденного, объектом его принудительного воздействия является право собственности на денежные средства, которые осужденный теряет в объемах, установленных законодательством. В условиях рыночной экономики и существующих социальных реалий это достаточно ощутимое и болезненное правоограничение.
Нижняя граница штрафа за уголовное преступление составляет 200 МРП, а верхняя – 10.000 МРП, что на сегодняшний день эквивалентно 30 миллионам тенге. При совершении же уголовного проступка планка штрафа значительно ниже – от 20 до 200 МРП. Иное правило будет работать, если штраф назначен за коррупционное преступление – тогда он будет кратным сумме взятки, полученного дохода или не поступивших платежей в бюджет. Об этом свидетельствуют многомиллионные штрафы, назначаемые высокопоставленным чиновникам за коррупционные преступления. При этом вызывает удивление, из каких источников оплачивают осужденные подобные штрафы. Их назначение наглядно иллюстрирует масштабность социального расслоения, сложившегося в современном казахстанском обществе.
В Казахстане, как и во многих государствах постсоветского пространства, штраф не получил значительного распространения в судебной практике. Это обусловлено уровнем социального благополучия населения, низкой платёжеспособностью большинства осужденных и опасением судов относительно того, что штраф будет выплачен. Напротив, опыт государств Западной Европы, США и Японии свидетельствует о высокой частоте применения штрафа как особого вида уголовного наказания.
* * *
Это были фрагменты доклада нашего коллеги Куата Рахимбердина на заседании круглого стола по альтернативным мерам уголовного наказания, который прошёл 6 декабря.